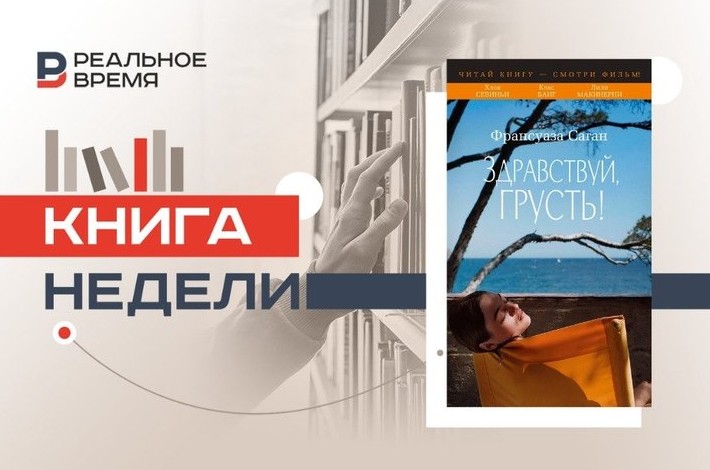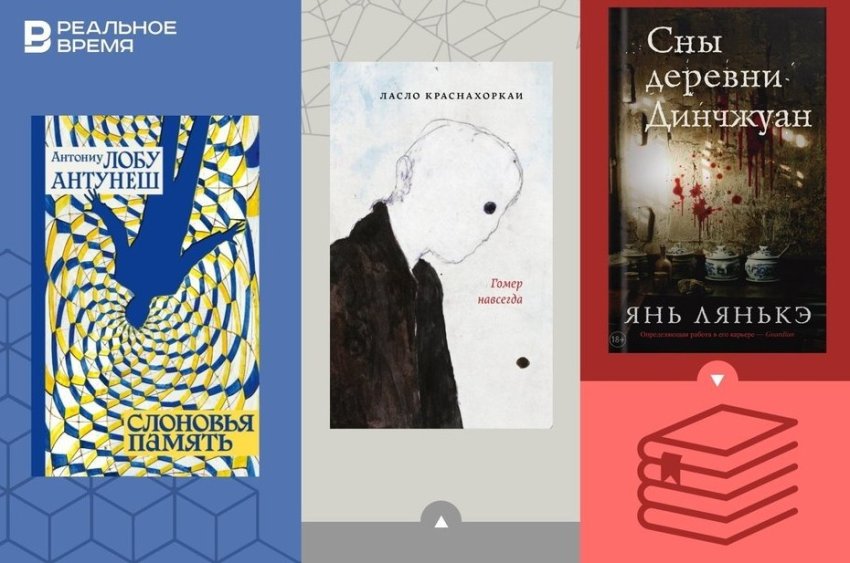Остров тишины - «Культура»

Дебютный роман Адель Розенфельд «У медуз нет ушей» — это история о страхе тишины и уязвимости языка

Что происходит с миром вокруг, когда утрачивается слух? Какие очертания разговора тет-а-тет распадаются и какие детали в оживленной комнате становятся заметнее? В своем дебютном романе «У медуз нет ушей» французская писательница Адель Розенфельд опирается на письмо ощущений, исходя из своей интимной связи со звуками и собственными трудностями как слабослышащей. Ее книга показывает, как меняются жизнь и быт, когда слух постепенно пропадает. Перед главной героиней романа Луизой стоит выбор: имплант как попытка остаться в мире слышащих, к которому она никогда полностью не принадлежала, или жестовый язык, как движение в сторону сообщества неслышащих, к которому она тоже никогда не принадлежала.
Вероятный сценарий
Луиза с детства частично глухая с пяти лет: одно ухо у нее не слышит совсем, другое — с помехами. Она давно выстроила свой равновесный способ существования — что-то слышит и додумывает, избегает телефонных разговоров и полагается на чтение по губам. Но когда слух начинает стремительно ухудшаться, врач предлагает кохлеарный имплант, который неизбежно уничтожит остатки привычного для Луизы слуха. Именно этот выбор становится для героини точкой напряжения. Луиза находится между двумя мирами — слышащих и глухих. Там, где от нее ожидают соответствия социальным нормам, она недостаточно слышит для беспрепятственного включения в повседневную жизнь. Это видно на собеседовании в мэрию: интервьюер говорит в нос, отворачивается, закрывается монитором, и Луиза угадывает отдельные слова, собирая реплики из обрывков.
Может, она имела в виду работу в зимнее время? Почему бы и нет.
Может, уже спрашивала меня об отпуске зимой? Вряд ли.
Может, интересовалась, как я провела прошлую зиму?
Нет, совсем не то.
А ведь это может быть вовсе не «по зиме», а «резюме», тогда она, вероятно, начала собеседование с того, что я отправила свое резюме.
Я наобум ответила «да».
Когда голос собеседницы переходит в частоты, недоступные для восприятия, женщина начинает «гавкать», и появляется первый миражный персонаж — пес, который в восприятии Луизы хватает ее за ногу.
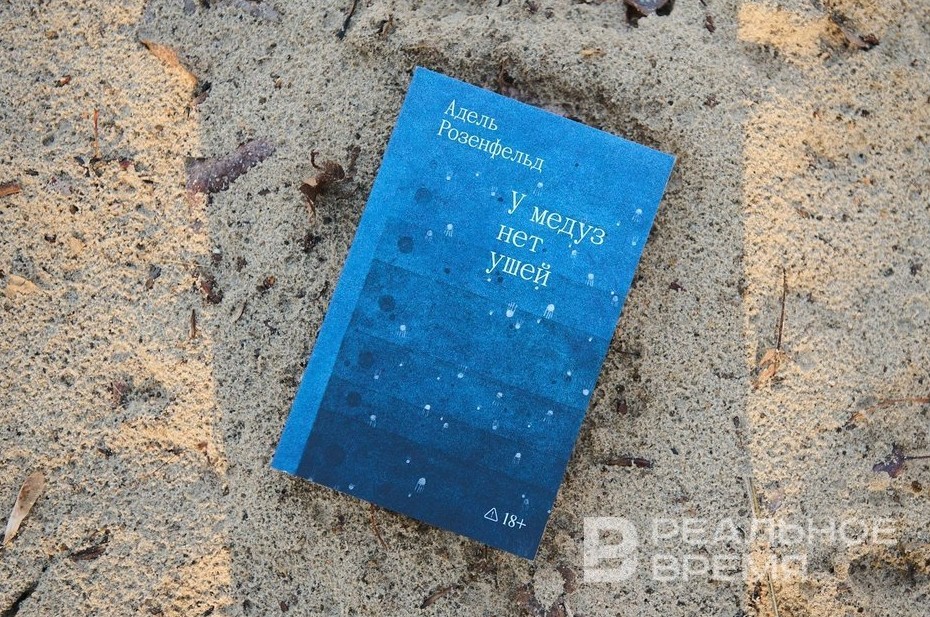
Внешняя линия событий остается лаконичной: Луиза живет рядом с матерью, общается с психотерапевтом и логопедом, дружит с Анной, проходит собеседование, получает временную должность и, после конфликтов с коллегами, оказывается в подвале, где в одиночестве оцифровывает записи о смерти. Позже она начинается встречаться с парнем по имени Тома. Но все, что происходит в обычной, слышащей реальности мало объясняет сам роман, потому что именно к этой реальности Луиза на самом деле не принадлежит.
Адель Розенфельд формирует роман на пересечении личного опыта и сознательно выстроенной дистанции между ней и героиней. Розенфельд объясняла, что для работы с таким интимным материалом ей было необходимо создать «чистого персонажа, литературного двойника», чья жизнь «полностью принадлежит ему самому», чтобы воображение могло выйти на первый план и позволить исследовать тему. Писательница подчеркивала, что роман — не 100%-ный автофикшн: «Это роман. Не мемуары. Рассказчица — вымышленная фигура». При этом исходная точка совпадения неизбежна: как и Луиза, Розенфельд с рождения слабослышащая и сама пережила потерю слуха, поставившую вопрос об импланте. Но писательница отметила, что позволила Луизе пройти через то, «о чем сама все еще спрашивает себя», — через операцию, на которую пока не решилась.
Эта граница между собственным опытом и художественным исследованием становится для нее способом честно подойти к теме: Розенфельд процитировала Варгаса Льосу о письме как «обратном стриптизе», где автор не раскрывается, а «надевает одежду, которая ей не принадлежит». Так она использует художественный образ, чтобы драматизировать чувства и озвучить собственные вопросы, но не повторять свою биографию. Формула Милана Кундеры о том, что роман изучает не реальность, а область человеческих возможностей, становится для Розенфельд ключевой: существование — это не то, что уже произошло, а то, чем человек может стать. Именно эту область возможностей писательница исследует, позволяя героине занять место, которое могло бы стать ее собственным.
«Не больше чем помесь медузы, рыбы и устрицы»
Название романа «У медуз нет ушей» выросло из тех же вопросов, которые определяют путь героини: что происходит, когда привычный сенсорный механизм дает сбой, и как можно обрести что-то, теряя? Эти вопросы долго занимали Розенфельд и легли в основу ее рабочего названия Absourdité, игры слов «абсурд» и «глухота» на французском языке.
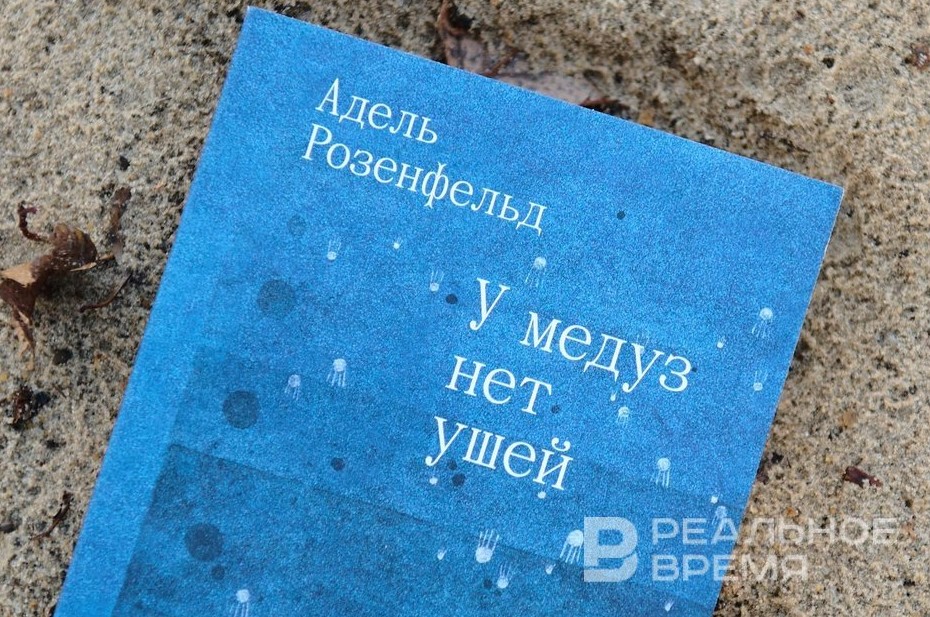
Образ медузы возникает неслучайно. Важным контекстом становятся размышления о восприятии животных: для них органы чувств — это инструмент выживания, а утрата одного чувства у человека может перераспределить остроту других, позволяя сменить угол зрения и довериться иным способностям. В книге этот сдвиг оформлен буквально: в Музее естественной истории Луиза узнает, что у медуз нет ушей, а слышат они через органы, связанные со зрением и равновесием. Героиня приходит к выводу, что она «не больше чем помесь медузы, рыбы и устрицы». Текст романа фиксирует тот же образ: «орган слуха медузы, не имевший отверстий и совершенно непохожий на ухо рыбы или человека». Это метафора ее собственного изменяющегося восприятия. Она прямо формулирует, соединяя биологический факт с формированием нового самоощущения.
Звуковая ткань романа строится на колебании между тишиной, искаженным восприятием и тщательной фиксацией звуковых деталей. Розенфельд обладает тонким слухом к языку и умеет работать с поэтическими недоразумениями, возникшими из рифм, ассоциаций и провалов тишины, которые ее воображение стремится заполнить. В мире Луизы любой звук превращается в знак: знак вопроса становится складкой на пухлых губах, а стиральная машина соседей звучит как землетрясение. При измененном состоянии сознания слуховой ландшафт Луизы деформируется, и она уверена, что слышит «свистящее из-за давней астмы дыхание» подруги Анны и даже звук, как солдат (еще один призрачный спутник героини) облизывает губы. Для романа звук — ключ к пониманию реальности.
Сама Розенфельд объясняла, что ее задача заключалась в том, чтобы «изобразить личное отношение к языку», сделать ошибку восприятия не недостатком, а ресурсом, «превратить деформацию языка в богатство», подобно тому как поэт Герасим Лука «вызывает заикание языка, раскрывая множественность значений». Искажение слышимого меняет не только слова, но и повседневные события: из-за глухоты слова искажаются, а за ней искажается реальность. Поэтому в романе появляется собака, которую Луиза впервые увидела на собеседовании в мэрии; солдат Первой мировой войны, появившийся в клинике; а позже и ботаничка из музея. Эти призраки становятся персонажами, которые сопровождают Луизу в процессе ее собственной трансформации. Писательница подчеркивала: сюрреализм не был добавлен нарочно, он возник естественным образом из «игривого исследования» нарушенной связи со звуками.
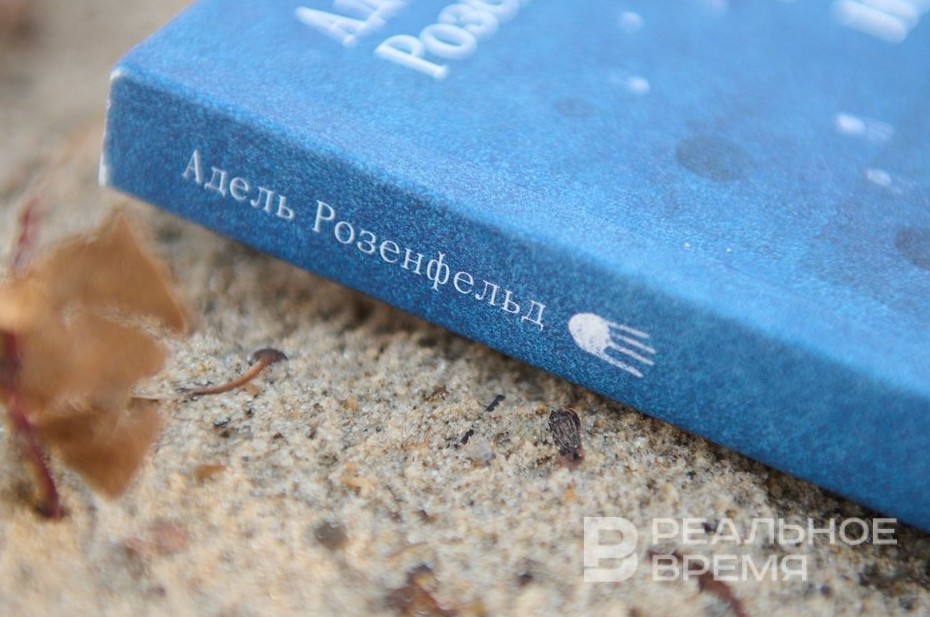
«Измененное восприятие звука приводит к более резкому фокусу и более эмоциональной связи со слухом. Потеря подавляет, навязчивая идея услышать — чрезмерна», — сказала Розенфельд в одном интервью. Она отметила, что попытка «поместить слух в слова» помогает ей лучше слышать и удерживать звуки в памяти. Для Луизы внимание к звуку неизбежно связано с вниманием к языку: утрата слуха, деформирующая язык, становится возможностью исследовать его асимметрии и несоответствия. «У медуз нет ушей» — это в первую очередь лингвистическое погружение. Именно языковое и звуковое смещение создает пространство, где Луиза может почувствовать некоторое утешение, потому что и она, и язык оказываются на расстоянии.
Работа со звуком в романе неразрывно связана и с переработкой мифов. Розенфельд пишет в книге, что «коллективное воображение игнорировало глухоту: об утрате слуха нет ни одной известной легенды». Хотя именно лишенный слуха человек показывает, что коммуникация — это умение действительно слушать. Отсюда и переосмысление мифа об Эдипе:
«Что мы приобретаем, когда теряем»
Одним из ключевых мотивов романа становится тишина. Луиза переживает ее как врага, которого нужно победить, монстра, питающегося словами. Постепенно она укрощает тишину и превращает ее в союзника, осознавая, что тишина — часть ее самой, частью языка. В одном интервью Розенфельд добавила: героиня иногда снимает слуховой аппарат, чтобы вернуть себе «округлость тишины», и задается вопросом: «пустота это или наполненность?». Потеря слуха для писательницы стала способом исследовать, «что мы приобретаем, когда теряем».
Ощущение мира через звук обретает материальную, почти физическую остроту в бытовых сценах. Внешняя среда превращается для Луизы в источник тревоги: голоса в супермаркете сливаются в единое эхо, искаженное восприятие создает эффект лихорадочной эпидемии, поразившей звуки. «Перестук консервных банок», «пиканье считывающих штрих-коды аппаратов на кассах», «хриплый кашляющий звук, издаваемый машинкой для нарезки колбасы в мясном отделе». Даже элементарный диалог на кассе распадается: Луиза различает «добревень» или «добрячмень», несколько раз отвечает, «не знаю», и уходит, чувствуя раздражение кассира.
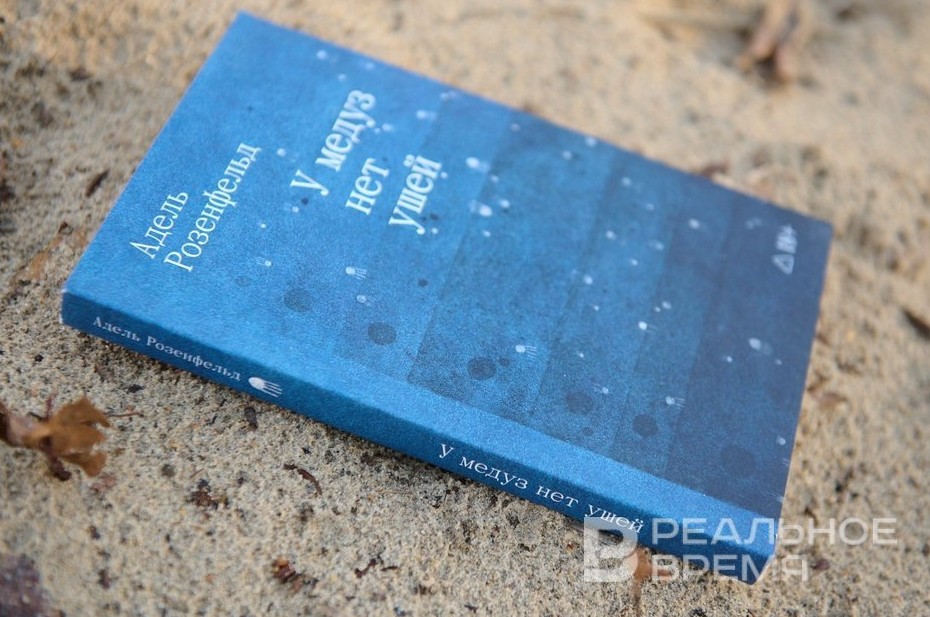
Так в романе формируется особая акустическая реальность, где звук одновременно материален и зыбок, где тишина опасна и необходима, а язык становится пространством, в котором слуховые сбои обретают смысл и форму.
Чтобы научиться запоминать звуки, а потом пересобирать их в разных комплектациях, Луиза завела звуковой гербарий. В нем она записывает предмет или явление, его название на латинском, координаты, где услышала этот звук, и описание, на что он похож. Звуковой гербарий помогает удержать ускользающее, придать форму тому, что вот-вот исчезнет. Розенфельд как-то сказала, что любое литературное усилие рождается из «желания сохранить нечто на грани вымирания: движение, жест, который вскоре исчезнет, и который писатель пытается сохранить любой ценой, поместив в правильный язык, то есть переведя».
Идея фиксировать звуки возникла у писательницы в момент собственной утраты слуха: не распознавая привычные шумы, она «пыталась описать их, чтобы заново научиться слышать». Одновременно ее заинтересовали гербарии солдат Первой мировой войны. Они собирали цветы на полях боя, сушили их и отправляли своим девушкам. Отсюда появилась мысль записывать звуки на бумаге поэтическим способом, превращая живую акустическую материю в литературную, как в настоящем гербарии. Розенфельд понравилась и идея указать GPS-координаты места, где звук был собран.
Для Луизы сбор звуков — не романтическое упражнение. Она понимала, что сопровождающие ее призраки — пес, солдат и ботаничка — утягивают в пространство фантазий, вытесняют ее из реальности. Именно в этом сжимающемся внутреннем пространстве она мастерит звуковой гербарий, чтобы удержать звуки, пока еще может их помнить, и признается:
На фоне давления врачей и близких — «все знали лучше меня, как мне надо реагировать на то или другое» — гербарий становится единственной зоной контроля. В нем Луиза фиксирует остатки акустического мира, чтобы хотя бы в записи не потерять то, что исчезает из ее восприятия.
Поиск слов как поиск себя
На фоне этого многообразия звуков в романе параллельно развивается тема поиска идентичности и взросления, но не линейного взросления героини, а через попытку собрать себя заново в условиях утраты — слуха, привычного языка, устойчивой точки опоры. Это история, где Луиза одновременно мучительно размышляет о кохлеарном импланте, влюбляется, сталкивается с трудностями на работе, учится и исследует свое место в мире. И воображаемые спутники девушки — отражение этих внутренних процессов: пес показывает языковую коммуникацию, солдат — как метафора внутренней войны, а ботаничка, которая к концу романа превращается в дерево, — как символ укорененности в травмах, состояния застревания.
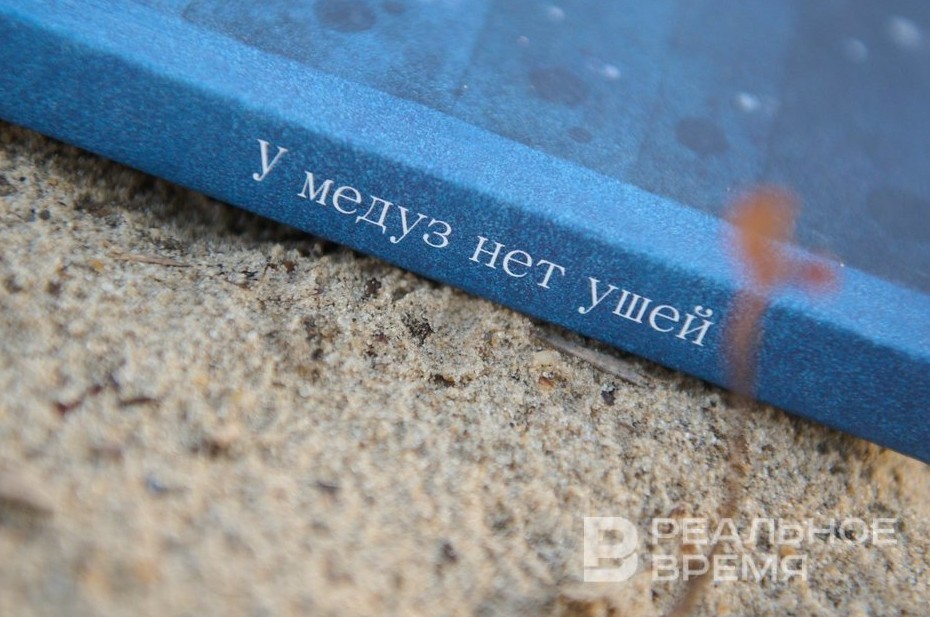
Кажется, как будто единственным выходом из этого оцепенения становится имплант. Но Луиза сомневается, потому что ее взросление — не о том, чтобы принять чужую логику, а о том, чтобы понять собственную.
Она читает историю мальчика-сироты Захария Броха из довоенного Бухареста, который вырос без языка, едва избежал депортации, а получив французское гражданство, сопротивлялся этой языковой идентичности и покончил с собой. Для него язык оказался ничейной землей, в которой невозможно обрести принадлежность. Для Луизы эта история — метафора собственного кризиса: жизнь через призму утраты превращает отсутствие слуха в навязчивую идею, а язык — в область, где она больше не чувствует себя дома.
Подлинное взросление Луизы связано с пересборкой идентичности. Анна напоминает ей: если ты что-то теряешь, из твоего существа ничего не вычитается. Потеря слуха — часть ее опыта, но не ее сущность. Луиза пытается заполнить воображением дыру между восприятием и реальностью, однако Анна стремится смещать рамки идентичности, чтобы Луиза не растворилась в утрате, не свела все только к ней. В этом движении — от застревания к пониманию, от страха к способности назвать себя — и разворачивается взросление героини.
Проблемы со слухом кардинально отличают Луизу от других людей. Таких, как она, общество распределяет по невидимым категориям. Да и сама героиня пытается соотнести себя с этими требованиями. Мир глухих, владеющих жестовым языком, и мир слабослышащих, которые научились читать по губам и говорить, формируют две разные языковые среды и две разные культуры, даже если обе группы несут один и тот же акустический опыт. Кстати, на носителей жестового языка долгое время давил орализм — практика, требовавшая подчинить жестовую культуру норме звучащей речи.
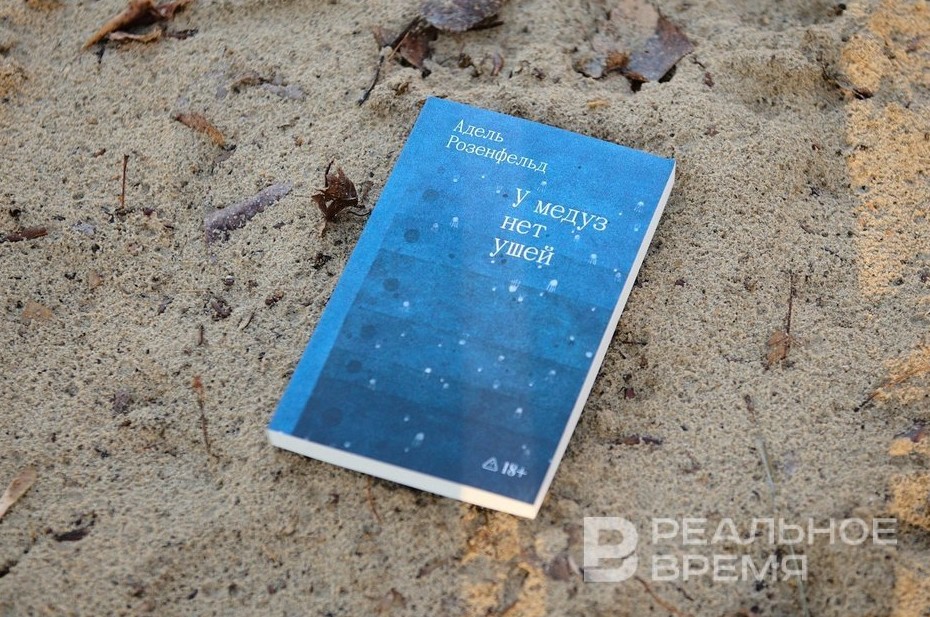
Луиза живет в этом промежутке — между двумя культурными системами и между представлениями о том, какой должна быть «нормальная» жизнь. Луиза часто чувствует себя как будто подвешенной, словно обитает в параллельном пространстве, и это чувство двоякое: ее одновременно тянет к нормальности и ранит, потому что именно норма постоянно делает ее уязвимой.
Общество устроено на правилах, которые человек усваивает с детства, стараясь приспособиться — иногда успешно, иногда нет. Создавая героиню с особенностью, Розенфельд стремилась вновь перестроить эти правила и распоряжения: что мы делаем со своими границами, как соотносимся с предписаниями, которые окружают нас ежедневно. Луиза вынуждена постоянно заново определять свои контуры, чтобы не потеряться в этих требованиях и понять, что для нее является истинной опорой, а что — лишь внешним ожиданием.
Роман Адель Розенфельд «У медуз нет ушей» двигается от простого слышания других к настоящему слушанию себя и в итоге становится мощной и необходимой медитацией о связях. Иногда самым сложным оказывается построить эту связь с другими с помощью слов, чтобы быть услышанной и принятой такой, какая ты есть. А иногда — установить связь с собой и побыть в тишине.
Издательство: «Подписные издания»
Перевод с французского: Валерия Фридман
Количество страниц: 176
Год: 2025
Возрастное ограничение: 18+
Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».
Екатерина Петрова
Подписывайтесь на
телеграм-канал,
группу «ВКонтакте» и
страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на
Rutube и
«Дзене».
И будьте в курсе первыми!