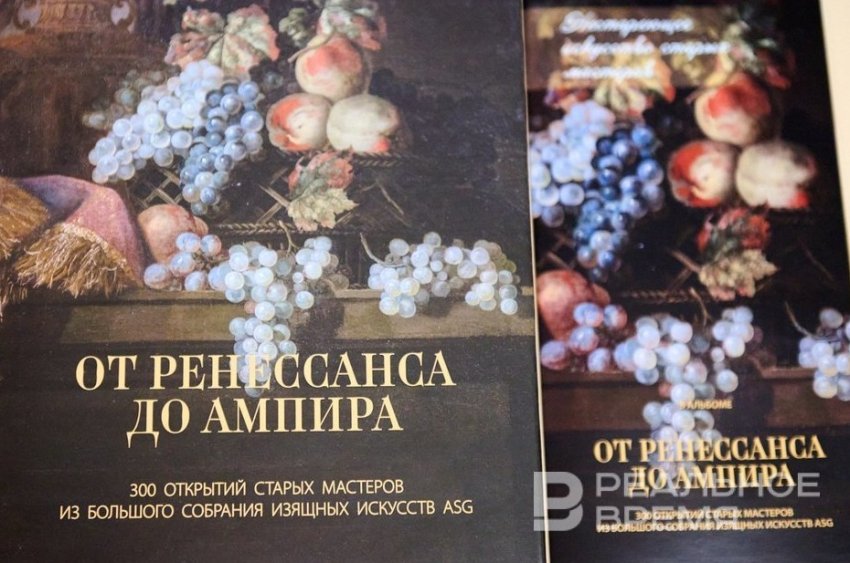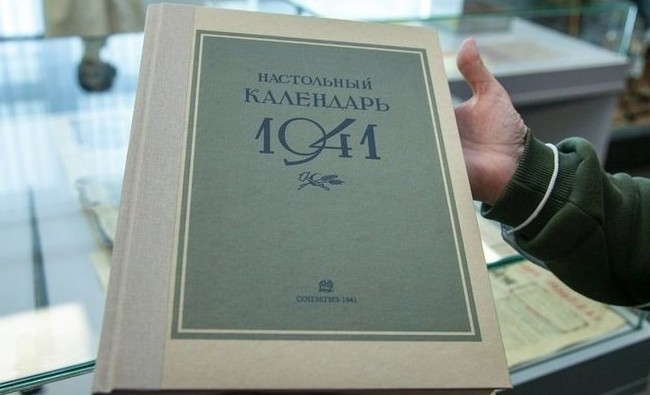Нон-фикшен: от рок-звезд науки до постов селебрити - «Культура»

На книжном фестивале «Веранда «Альпины» обсудили, куда движется современный нон-фикшен и с какими проблемами сталкивается

Сегодня качественные научно-популярные книги равноправно конкурируют с художественной литературой. Но буквально десять лет назад ситуация была иной. На книжном фестивале «Веранда «Альпины» главный редактор и генеральный директор издательства «Альпина нон-фикшн» Павел Подкосов обсудил с сооснователем Центра современной культуры «Смена» и исполнительным директором издательства Ad Marginem Кириллом Маевским, как изменился нон-фикшен за эти годы и что он представляет собой сейчас.
Литература как выставка современного искусства
Под определением «современный нон-фикшен» скрывается сразу несколько направлений — от новых документальных текстов до старых, но не утративших актуальности работ. К примеру, в «Альпине нон-фикшн» выходят современные тексты, но при этом Ad Marginem издает книги, написанные 50, 70, 100 лет назад, и их нельзя назвать несовременными. Павел Подкосов отметил, что основное отличие современной научно-популярной литературы — это язык и структура книги. Так, как пишут сейчас, не писали полвека назад и даже двадцать лет назад.
По словам Кирилла Маевского, современный нон-фикшен живет внутри сложной медийной среды, где жанры постоянно перемешиваются. «Все очень сильно переплетается, — сказал он. — Современная автофикшен-литература, находящаяся посередине между нон-фикшеном и фикшеном, напоминает выставку современного искусства». И добавил, что ощущение это настолько отчетливо, что скоро, возможно, появятся ридинг-группы по текстам и медиации по книгам — так же, как сейчас их проводят на выставках.
Маевский объяснил, что для него «современность» книги — это не вопрос даты написания, а вопрос чувствительности к миру. «Это тексты, которые впитывают и отдают обратно что-то современному миру. Появляется новая компьютерная игра, и она уже может повлиять на восприятие этих текстов». Тем не менее Ad Marginem издает не только новые книги. Среди них есть и тексты середины XX века, и даже дореволюционные издания. «В работе с архивом, — сказал Маевский, — всегда встает вопрос: как мы приземляем его в современность? У любого архива должна быть метафора, связывающая его с настоящим». Он подчеркнул, что интерес к старому у издательства не из любви к антиквариату, а из желания «вытащить что-то из прошлого, что может помочь нам сегодня».

Маевский говорил, что старые тексты нужно читать с осознанием их уязвимости: они не отвечают современному ритму. «Реальный текст стал быстрее. Мы за последние двадцать лет стали читать в разы больше — просто из-за смартфонов. Количество текста, которое мы видим ежедневно, человеку XX века и не снилось», — сказал Кирилл Маевский. Это, по его словам, изменило саму природу чтения и то, как мы воспринимаем написанное.
«Мы все время в поиске следующего бестселлера»
Поскольку подавляющая часть издательств в нашей стране — это коммерческие организации, которые живут благодаря продажам, то естественно, что есть книги и направления, которые продаются лучше. «Многолетний бестселлер у нас — «Сказать жизни «Да» Виктора Франкла. Там уже сотни тысяч проданных экземпляров», — сказал Павел Подкосов. Но если говорить шире, подчеркнул он, все зависит от направления. В издательской группе «Альпина» — семь редакций: от бизнес-литературы до young adult и женской прозы. «Альпина нон-фикшн» изначально делала ставку на научпоп — с 2008 года, когда выделилась в отдельное издательство. Однако интерес к классическому научпопу, по словам Подкосова, постепенно снижается. «Пик пришелся на 2016–2017 годы, когда в России существовали независимые фонды поддержки науки, было много лекториев, медиа и популяризаторов. Сейчас всего этого стало меньше, градус снизился», — отметил издатель.
Главное, сказал он, что успех книги всегда зависит и от темы, и от автора. Павел привел пример физика и математика Алексея Семихатова: «Он — рок-звезда от науки. Что бы он ни написал, это покупают. Я видел, как после его лекций люди подходили и говорили: «Дайте две его книги, я ничего не понял, но это было так круто». Среди других устойчивых имен — американский нейроэндокринолог Роберт Сапольски с «Биологией добра и зла» и американский физик-теоретик Митио Каку.
Если смотреть по темам, сегодня читателя больше тянет к гуманитарным дисциплинам. «Последние два-три года у нас номер один — это история», — сказал Подкосов. А в издательстве «Альпина Паблишер», которое занимается бизнесом и психологией, стабильно продаются книги по self-help. И это понятно: после пандемии людям нужна терапевтическая литература — «та, что поддерживает, помогает справляться со страхом, дает ощущение стабильности». Исторические книги востребованы по другой причине: «Мы пытаемся разобраться в происходящем и ищем ответы в прошлом. Правда, никто не выносит из этого урок», — добавил Подкосов.

Кирилл Маевский говорил о механике издательских успехов. По его словам, нет ни одного издательства, которое живет за счет одного автора. «Мы все время в поиске следующего бестселлера. Но издательство никогда не издает бестселлеры — бестселлером книга становится потом», — добавил Маевский. Он рассказал, как книги, которые хорошо продаются по всему миру, в России могут «провалиться»: «Мы ставим на них, печатаем не три, а пять тысяч экземпляров, а потом годами жалеем. Бывает, что дело в упаковке, обложке, формулировке аннотации — все может сыграть».
Он вспомнил пример новой книги Льва Данилкина об Ирине Антоновой «Палаццо Мадамы». «Тираж четыре тысячи ушел за неделю», — уточнил Подкосов. Издательству пришлось срочно договариваться с типографией о новом тираже — еще восемь тысяч, потом снова восемь. «Всего двадцать тысяч. Уйдут до Нового года, и будем печатать дальше», — добавил Павел. Изначально издательство сомневалось: книга дорогая, «цена 1200–1500 рублей могла отпугнуть читателей». Ошиблись — спрос оказался огромным. Маевский отметил, что такая ситуация — редкость. «Бывает, первые 3–4 тысячи уходят за пару недель, и кажется — надо печатать еще. Но пока книга в типографии на допечатке, все может измениться, и через три недели книга уже никому не нужна», — сказал Кирилл.
Он рассказал и о старых примерах. У Ad Marginem есть книги, которые десятилетиями продаются «ровным» тиражом. Например, «Надзирать и наказывать» Мишеля Фуко. Или «1913. Лето целого века» Флориана Иллиеса— три тысячи экземпляров в год, скромно, но стабильно. А потом журналистка и публицист Алена Долецкая начитала книгу для Storytel, и продажи «взлетели перпендикулярно».

Он отметил, что при всей технологичности маркетплейс не заменяет человеческий контакт с книгой: «Там ты покупаешь то, что уже знаешь. Случайного открытия, как в магазине или на фестивале, не произойдет». Поэтому сегодня возвращаются «старые, но устойчивые формы продвижения» — издательские каталоги и фестивали. «Мы второй год подряд выпускаем каталог планов и видим, что он работает. А фестивализация книжной торговли — одна из самых живых форм продвижения», — сказал он. Подкосов с этим согласился: региональные фестивали действительно дают ощутимый эффект. «Люди приходят на встречу с нашим автором в Ярославле, Казани или Владивостоке, видят и другие книги издательства, начинают интересоваться. Для нас важно не столько продать, сколько рассказать, показать, кто мы такие и что делаем».
Отдельно Павел упомянул блогеров: «Это дико важно. Блогеры любят подарки — мы делаем им боксы, где книжка, открытка, кружка. Потом они делают распаковки, это стало модой, фетишем».
Из новых практик Подкосов назвал работу с книжными магазинами. Редакторы ежемесячно встречаются в Zoom, чтобы заранее рассказать о новинках. «Это важно, чтобы магазины успели подготовиться, заказать, оформить витрину», — пояснил Павел Подкосов. При этом диалог с крупными сетями остается непростым: «Сеть «Читай-город», как сказал Кирилл, — самые умные, красивые, разговаривать с ними сложно, но иногда мы добиваемся приличных результатов: предзаказы, выкладки, работа по всем точкам».
С одной стороны, рынок становится все более технологичным — цифра, статистика, маркетплейсы. С другой — старые инструменты — фестивали, живые встречи, каталоги — не только не исчезают, но становятся нужнее. Продвижение книги держится и на цифровых алгоритмах, и на человеческом интересе, который все еще нельзя посчитать по кликам.
Просто о сложном
Несмотря на разнообразие нон-фикшен-литературы, одни направления развиваются стремительно, а другие — все еще буксуют. Если в естественных науках удалось научить экспертов писать интересно и доступно, то в гуманитарных дисциплинах этот прорыв пока не случился. Павел Подкосов ответил, что за последние годы ситуация в научно-популярной литературе действительно изменилась — и в лучшую сторону. «Еще десять лет назад серьезные ученые просто не были готовы писать научпоп», — напомнил он. Тогда сама идея популяризации воспринималась как «шаг назад»: мол, зачем опускаться до «попсы», если ты занимаешься «настоящей наукой» в своей башне из слоновой кости. Но интерес аудитории к сложным темам все равно был, и в итоге решающую роль сыграли переводы западных авторов.

Подкосов вспомнил пример физика Митио Каку — одного из создателей теории струн, который «может писать классно, с юмором, легко и понятно всем». Российские ученые, по его словам, увидели, что это не стыдно, и начали пробовать. Параллельно появилось поколение научных журналистов, которые «понимали, как работает наука и что такое научный метод», но при этом умели писать живо. Постепенно все сложилось: и сегодня в России есть собственный, качественный научпоп.
Кирилл Маевский признал, что пока этот успех не удалось повторить в сфере гуманитарного нон-фикшена. «Здесь нет одного ответа, — сказал он. — В случае с естественными науками все сложилось усилиями множества агентов и институций: издательская группа «Альпина», проекты «ПостНаука» и Arzamas, премии, лекционные проекты. Медиасреда откликнулась, появились площадки, где научпоп можно было продвигать. Нужно было только убедить крупных ученых написать книгу».
С нон-фикшеном об искусстве все сложнее. Маевский напомнил, что последние годы в России наблюдается «музейный бум»: очереди на Репина, Серова, Куинджи, аншлаги на выставках авангарда. Казалось бы, есть потребность, есть интерес к искусству — значит, должны появляться и сильные отечественные тексты о нем. Но этого не происходит. Он предложил несколько возможных объяснений. Одно из них — инфраструктурное. «Книжных магазинов при музеях так и не появилось. Те, что есть, работают плохо. Один хуже другого. А еще у них наценка сто процентов», — отметил Маевский. Издательство, по его словам, поставляет книги музеям по минимальной цене, но итоговая стоимость все равно взлетает.

Есть и другая, более системная причина. В научпопе «журналисты делали level-up, ученые при этом не делали level-down», то есть обе стороны росли навстречу друг другу: журналисты осваивали сложные темы, а ученые учились писать доступно, не упрощая. В гуманитарной сфере такого процесса пока не произошло. Кроме того, у книг об искусстве больше производственных барьеров. «Для научно-популярного текста тебе не нужно идти в музей и защищать права на картинки, — объяснил Маевский. — А как только начинаешь это делать, себестоимость книги резко вырастает. Это уже вопрос не текста, а экономики».
Он признался, что единого решения нет: «Есть куча разных деталей, из которых складывается отсутствие отечественной популярной литературы по искусству. Но одного ответа — почему так — нет». Научпоп стал возможен, когда наука и медиа научились говорить на одном языке. С гуманитарными науками этот диалог пока еще впереди.
Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».
Екатерина Петрова
Подписывайтесь на
телеграм-канал,
группу «ВКонтакте» и
страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на
Rutube и
«Дзене».
И будьте в курсе первыми!